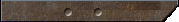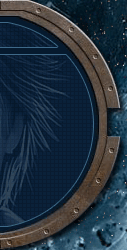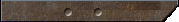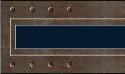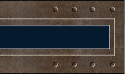| 17 февраля 1600 года на Кампо деи Фьори (площади Цветов) в Риме был сожжен по обвинению в ереси великий сын человечества Джордано Бруно|1. Приговор был подписан Священной Конгрегацией, верховным органом Италии по расследованию и пресечению преступлений против веры. В вину мыслителю ставилось нарушение коренного догмата папской церкви — материалистически истолкованной Птолемеем пифагорейской идеи о центральности в миропорядке, «гармонии сфер», созерцателя-человека. Место Духа, каков этот зритель по сути|2, в доктрине церковной занял жалкий в своем самовластии полый сосуд его, физическая Земля, и с ней плоть земнородная наша. Зря истину, Бруно отрицал земные превосходство и исключительность|3. Миров, подобных Земле, мыслил он, — по дыханию жизни, гармонии — множество, кое суть Воля Одна|4. Бог — во всем. Он сияет в вещах, меж каких нет презренных. Он светит и в нас — и божественны мы, свет сей зная как Божий и свой. Так утверждал Джордано, по-детски бескомпромиссно и жарко веривший в Человека и его Звездных Братьев. С верой сей он взошел на костер. Многие вещи, говаривал Кант, способны возбудить удивление и восхищение, но подлинное уважение вызывает лишь человек, не изменивший чувству должного. Таким есть навечно Джордано. Подвиг его, нас волнуя поныне, пронзает века простотой. Гений Света, явив Знанья луч — как Христос, не с людьми он боролся, но с тьмой в них. Враг лжи, был он Любящим в чистых очах. Он стремился с восторгом во Истину, и в храм ее огнь костра стал вратами|5. Смерть в одном столетии дарует жизнь
во всех веках грядущих. Джордано Бруно 1 Костер заложен честь по чести:
Вязанок хвороста, поди,
Хватило б человек на двести.
Но ожидается — ОДИН. Час ранний. Кампо деи Фьори.
Мир слеп. До света полчаса.
Людское, цвета пепла, море.
Рим ропщет. Немы Небеса.
Тень от распятия на лицах,
Ноздрей фигурный вырез вздут... (голоса толпы) «Сколь ждать еще?!» —
«Ужель свершится?» —
«Ах, сударь, скоро ль поведут?» —
«Великий Бог! Святая Дева!
Народ бунтует. Слышу звон
Точимых копий. Дети гнева
Идут, им имя — легион!
Знать, настает, по всем приметам,
Италии недобрый час.
Кровавым брезжит день рассветом...
За что караете вы нас?» —
«Довольно ныть! Не в храме, право!
Слов минул час — нужны дела,
Чтоб вольнодумия отрава
Не злей игристого была.
Оставить след сожженья б моду!
Ведь водам Тибра все равно:
Коль возжелал плебей свободу,
На шею камень — и на дно!
Запомни, чтоб не вторить дважды,
Будь ты купец иль духовник:
Свободолюбцев тьма, и каждый —
Всего лишь вшивый еретик!» —
«Да, чернь сегодня одурела,
Как от прокисшего вина:
Едва придушен Кампанелла|6 —
Явился новый сатана!
И, верно, первого похлеще:
Твердит о множестве миров,
Мол, жизнь, она и в небе плещет,
Мол, Братья там нашли свой кров;
К мирянам руки простирают,
Хоть их призывы не слышны...» —
«Не суд — сам Бог его карает!» —
«В костер посланца Сатаны!» —
«Глупец! Обугленная туша
И из барана хороша.
Скажи мне, как изжарить душу —
Огнем не зыблема душа!» —
«Упрям. Как бился с ним Пинелли!»|7 —
«Тот самый? Да неужто?» —
«Тот.
Рот раскрывает еле-еле,
Свое ж бормочет. Так-то вот...» —
«А говорят, ведь был священник,
Брат-проповедник, говорят?»|8 —
«Был — что с того! Теперь — мошенник,
Теперь одна дорога — в ад!» —
«Эх, теснотища здесь, однако!
Со всех сторон клещами жмут!
Боюсь, когда пойдет, собака,
И плюнуть в рожу не дадут!» —
«Живьем, живьем его зажарить,
Греховный лопнет пусть живот!
Чем он — пусть лучше кучка гари,
Спокойней так...» И вдруг — «Идет!» «Идет!» Вмиг братия вскипела,
Темномантийный взвился спрут,
«Идет!» — в устах мирян гудело,
Но не кричал никто — «ведут!» Толпы невидимые струны
До звона напряглись тотчас
И — лопнули:
Джордано Бруно
Шел по земле
В последний раз. 2 Он шел.
Поверх голов смотрящий,
Поверх — и каждому в лицо,
Тот самый Бруно,
Настоящий,
Один,
Пророк в плену лжецов.
Один —
но с Истиною вместе:
Так, верно, было решено,
Чтоб на жаровне фарисейства
Сожгли их нынче заодно. Счастливец,
Баловень столетий
в халате стеганом рубцов.
Знаток премудрости и плети.
Друг всех друзей.
Враг всех врагов.
Для палачей непостижимый.
Предмет проклятий и любви.
Черним — но чище херувима,
В крови — но в собственной крови.
С душой загадочнее чащи,
Открытый, как морская гладь.
Прямой.
Ликующий.
Скорбящий.
Молчащий,
каменно молчащий.
Способный
многое
сказать. Он шел
Средь факельного чада,
Шел в рубище,
но без заплат,
А вкруг него как будто ада
Вился нездешний маскарад,
Как будто именно сегодня
Вся демоническая мразь
Из подземелий преисподней
На эту казнь, шипя, стеклась. Он шел,
а смерть в лицо дышала,
Огнем дышала,
но с оков,
С волос седых лишь пыль сдувала,
Пыль казематов
иль веков.
Он шел.
Как будто без усилья,
Как на прогулку поутру,
И за спиной, незримы, крылья
Мятежно бились на ветру.
Толпа к лицу тянула пьяно
Рук-сучьев одичалый сад,
Но слышалось сквозь рев: «Джордано!»
И, словно эхо, тихо: «брат...» Поодаль от святейшей длани,
Живой, как ртуть, и свеж с лица,
Сын гончара, мальчишка Джанни
За локоть теребил отца.
«Жестоко дяди наказанье!
Злодей ли он?» — «Едва ль. Несхож!» —
«Что ж наказуют здесь?» — «Познанье.
Оно, мой сын, острей, чем нож!» А день, заботлив и беспечен,
Небесноок, курчаво ал,
Вставал
И облачные плечи
Великой силой наливал.
Казалось, в солнца теплом ситце
Рос богатырь, учась ходить,
Креп, чтоб со злом и тьмой сразиться
И — превозмочь, и — победить.
Свет юный дивно занимался,
Земле и мирозданью люб... Джордано шел
и улыбался
чему-то
уголками губ. Чему?
Быть может, в провиденьи
Себе он славу прорекал,
Ее овеян жаркой сенью?
О нет,
о славе он не знал! Не знал:
шаги, что приближают
Его пути лихой конец,
По ветке лавровой вплетают
В терновый траурный венец.
Не знал он:
те, кто ныне, страхом
Обуреваемые, ждут
Его истерзанного праха —
Во прах истории падут,
Что станет он героем Рима —
Того, чьим был сейчас рабом, —
Что, от случайностей хранимый
Людскою памятью,
потом,
когда-то
переплавлен будет
в костром не плавимую медь|9.
Пускай о том никто не судит:
Он шел,
чтоб просто
умереть.
Из дум последних круговерти
Не отливал он пьедестал.
Не в том был смысл сей строгой смерти:
он
в простоте лишь
состоял.
Лишь в простоте.
Как рук касанья,
Что материнскими зовем,
Как первого в любви признанья,
Как приглашенья в отчий дом.
Лишь в простоте.
Но эта малость
Была костра достойной тем,
Что не себе предназначалась —
Для всей планеты.
Людям.
Всем,
Кто жизнь в мозолях рук лелеял,
Кто знал о нем
и кто не знал,
Кто сеял хлеб,
кто правду сеял
Иль, как клинки, ее ковал.
Всем,
кто из черных недр темницы
На небеса, дивясь, смотрел,
Кто к дню тому успел родиться
И кто родиться не успел. Всем им.
Хоть, думой пламенея,
О том мечтать едва ль он мог,
По воле случая,
точнее —
по воле Божией
Пророк.
Не словом — подвигом предвидя
Звон дюз ракет и звон гитар,
Он шел,
блеск фальши ненавидя,
как легкомысленный Икар.
Как он,
крылатый,
обретая
на камнях Вечности конец,
как он,
в падении
взмывая
в высь человеческих сердец. И — в высь иную,
ту, что Разум
В мерцаньи звездном перед ним
Открыл, необозриму глазом.
К грядущим дням.
К мирам иным. Садились голуби на крыши,
Бриз каравеллы в море гнал...
А он
был с каждым шагом
выше,
хоть и Земли не покидал.
Согнулся горизонт дугою,
Метнулась вниз планеты грудь,
И говорящею рекою
Потек, сияя, Млечный Путь.
Полночным заревом акаций
Свет звездный в сердце разлился...
Он шел.
Средь волн цивилизаций.
С ним говорила Вечность вся. «Кто ты, чей лик нам столь желанен,
Где, друг, отечество твое?
Чей ты посланник?» —
«Я Землянин.
Я к вам с Земли,
Я сын ее.
Привет вам, солнечные Братья,
Благие Бога семена!
Сквозь смерть приемлю вас в объятья:
Идущим в Жизнь — страшна ль она!» —
«О да!
Путь прям,
взойди ж скорее
В хор солнц,
в круг Братский,
в дом Отца!» Жжет пламя.
Кончено.
Слабею… И все же Жизни нет конца! 3 Той ночью многие не спали,
Тревожил Рим неясный гул.
Жгли в плошках жир.
Чего-то ждали.
А Джанни не стерпел — заснул. Укрывшись рванью, как парчою,
От бед на время отрешен,
Спал мальчуган.
И сам собою
Ему приснился дивный сон. * * *
Фонарь луны.
Играют блики
На виноградных гроздьях звезд.
Но чу: веселый смех и крики,
А в небесах — хрустальный мост! Что ж Джанни? Мальчик испугался:
Стрелою, бездну пополам
Расклинив, мост тот опускался,
А по мосту... шли люди там! Шли, шли — несчетными рядами,
Бок о бок, рядом и вдали,
Над городами и садами,
К Земле — и дальше, от Земли. Да люди ль? Пригляделся Джанни
(Ему был в помощь лунный свет):
Одни обличьем как земляне,
Другие — вовсе как и нет.
Но, разнолики, разнокожи,
Они — в том, верно, смысл был свой —
Между собою были схожи,
Как дети Матери одной. Смеялись, а казалось — пели,
Сплетя мильоны крепких рук.
Куда б они ни посмотрели —
Иль друг на друга иль вокруг —
Глаза их, словно расцветая,
Цветами нежности цвели,
С любовью равной отражая
Цветенье неба и Земли.
И чудилось, что раздавался
Легчайший шорох добрых крыл... Нет, Джанни больше не боялся:
Средь них один — Джордано был. * * *
Бывает так.
Костер пылает.
Ждет жертву огненный порог.
Все есть.
Лишь Бруно
не хватает,
что на него
подняться
мог. КОММЕНТАРИИ 1. Бруно — уроженец города Нола, что на севере Италии; в слове сем зрима Тьма-Ноль, Божья Длань, ему давшая путь.
2. Поистине, Дух, Центр гармонии сфер, — есть дух наш (и в сакральных трудах речено, что любой в Мире зрящий — центр полный его); земля, Духа очаг — наша плоть, с ним согласная волей Творца; круг подлунный, Сансара — в нас бренье; путь к крайней из сфер — стезя нашего роста, в каком преуспев, есть мы Мир.
3. Земля превосходит иные планеты лишь с тем, что центральному Солнцу, Огню есть покорный очаг (h|est|ia); вне сего же она не выходит из ряда планет.
4. О необходимости познанья единства Творца через множественность Его творений Бруно, в частности, пишет: «величайших похвал заслуживают те, кто стремится к познанию этого начала и причины для того, чтобы познать по мере возможности его величие, созерцая очами размеренных чувств эти великолепные звезды и сияющие тела; и столько имеется обитаемых миров и великих живых тел и превосходнейших божеств, сколь бесчисленными кажутся и являются миры, не многим отличные от того, к которому мы принадлежим; (…) они знают начало и причину, а следовательно, и величие его бытия, жизни и действия: они показывают и проповедуют в бесконечном пространстве бесчисленными голосами бесконечное превосходство и величие своего первого начала и причины».
5. «И долгая жизнь в бесславии, — сказано Пьетро Помпонацци, — не предпочтительнее краткой похвальной жизни, так как жизнь человеческая, даже самая краткая, предпочтительнее сколь угодно долгой жизни скота. Ведь Аристотель говорит в I книге «Этики»: «Долгую жизнь только при прочих равных условиях следует предпочесть кратковременной жизни». // В таком случае оказывается предпочтение не смерти самой по себе, так как она ничто, но праведному деянию, хотя за ним и следует смерть. Так что, отвергая порок, человек не отвергает жизни, которая сама по себе — благо, но отвергает порок, следствием которого явилось бы сохранение жизни». Велик нам Ахилла пример, кто, при данном богами ему выборе меж долгою, но пустой жизнью, и краткою, но полной славы — последнюю твердо избрал.
Впечатляющую панораму казни еретиков чрез сожжение, какой она была в Испании поры бесчинств инквизиции, энергичными красками рисует Поль де Сен-Виктор в новелле, посвященной нравам двора Карла II. Ауто|да|фе, пишет он в предварение этой картины, «при вступлении на престол и свадьбах королей Испании заменяло фейерверк. (…) Инквизиция точно испытывала властителей, принуждая присутствовать их на своих спектаклях; она короновала их пылающим углем Исайи. Прежде чем вступить на трон, они должны были пройти через ее пламя: это было огненным крещением их царствования». Далее следует описание действа: «Огромный эшафот, над которым царила кафедра Великого Инквизитора, был воздвигнут на Plaza-Major. В семь часов утра король, королева, гранды, посланники, придворные дамы, празднично разодетые, заняли места на балконах, с которых был виден этот трагический театр. В восемь часов процессия началась. Сто угольщиков, вооруженных пиками, шли во главе: это была привилегия поставщиков костра. За ними следовали доминиканцы, предшествуемые зеленым крестом, обвитым крепом; герцог Медина Цели, наследственный хоругвеносец инквизиции, присные святейшей инквизиции в плащах, испещренных черными крестами, и тридцать человек, несшие картонные изображения, из которых одни представляли бежавших приговоренных, другие — умерших в тюрьме. Мятежные останки этих избежавших казни были влекомы в гробах, украшенных нарисованными языками пламени. За ними следовали вереницей двенадцать осужденных с веревкой на шее и с факелом в руке; их картонные колпаки были расписаны шутовскими рисунками. Инквизиция высмеивала своих жертв; она наряжала их как манекенов, прежде чем кинуть в свои потешные огни. За ними следовали пятьдесят других приговоренных, одетые в желтые одежды с желтыми крестами. Это были евреи, которые, будучи взяты лишь в первый раз, подвергались пока только бичеванию и темнице. Наконец появились morituri празднества, двадцать евреев и евреек, осужденных на костер. Они шли, одетые в свое проклятие и в свою казнь. Их одежды и колпаки пылали. Те, которые раскаянием заслужили милость быть задушенными до костра, были отмечены опрокинутыми языками пламени; но пламя тех, кого должны были сжечь живыми, стояло прямо, и нарисованные дьяволы, карабкаясь по их одеждам, разрывали их. Рты наиболее упорных были заткнуты кляпами. // Зловещая толпа, влекомая веревками, проследовала под королевским балконом, как гладиаторы перед ложей Цезаря. «Этих несчастных протащили так близко от короля, — говорит г-жа д’ Онуа француженка, бывшая свидетельницею действа — Авт., — что он слышал их жалобы и стоны, потому что эшафот, на котором они стояли, касался его балкона. Монахи, некоторые искусные, другие невежественные, с яростью вступали с ними в споры, чтобы убедить их в истинах нашей веры. Среди них были евреи, весьма ученые в своей религии, которые с большим хладнокровием отвечали поразительные вещи». Была отслужена заупокойная обедня; во время чтения Евангелия священник покинул алтарь и король Испании, с обнаженной головой, приблизился, чтобы у колен великого инквизитора принести присягу святейшей инквизиции. В полдень началось чтение решений и приговоров, прерываемое криками и мольбами осужденных. Между приговоренных к костру была семнадцатилетняя девушка «дивной красоты». Ребенок не хотел умирать; она отбивалась, как бы уже чувствуя укусы пламени, и — обращаясь к королеве, молила о помиловании. «Великая королева, — говорила она ей, — неужели ваше королевское присутствие ничего не изменит в моей несчастной судьбе? Взгляните на мою юность и подумайте, что дело идет о религии, которую я впитала с молоком матери». «Королева отвратила взор, выражая сострадание, но она не посмела ничего сказать, чтобы спасти ее». (Memoires de la Cour d’Espagne). Вероятно, она была уже очень порабощена страхом, если могла сдержать горькую жалость, переполнявшую ее сердце. Кто знает? Быть может, одна из ее слез потушила бы пламя ужасного костра. // Чтение приговоров длилось до девяти часов; прерванная месса возобновилась: тогда королю и королеве было дозволено удалиться. Но двор и народ сопровождали осужденных, привязанных к ослам, за Фуенкаральские ворота, где был воздвигнут костер. Эта старая Испания была закалена в огнях инквизиции. Гидальго хорошего рода бывал взволнован зрелищем еврея, жарящегося на костре в рубашке, пропитанной серой, не больше, чем римский патриций осмоленными христианами, которых зажигал Нерон. В испанской Сицилии дамы во время аутодафе кушали щербеты, которые им подавали монахи, как туристы пьют лакримакристи в траттории отшельника, глядя на дымящийся Везувий. // Казнь была ужасна. «Мужество, с которым приговоренные шли на казнь, действительно необычайно, — говорит г-жа д’Онуа. — Многие сами кидались в огонь, другие сжигали себе руки, потом ноги, держа их над огнем, сохраняя при этом такое спокойствие, что приходилось только жалеть, что души столь мужественные не были просвещены лучами веры. Я туда не ездила; потому, что, не считая того, что было уже за полночь, я была так потрясена все виденным днем, что чувствовала себя дурно».
*
Путь в огонь Бруно зрит неотдельным от крестного в мире пути, коим Истина сходит от к власти к безвластью, чтоб в пору свою вновь его осиять. О сем — речь Трисмегиста к Асклепию в бруновском вещем труде «Изгнание торжествующего зверя»: «Видишь ли ты, о Асклепий, сии одушевленные, полные чувства и духа статуи, кои творят множество столь славных деяний, эти статуи, говорю, предвещательницы будущего, кои низводят, смотря по заслугам, болезнь и здоровье, горе и радость на души и тела людей? Разве ты не знаешь, о Асклепий, что Египет — подобие неба или, лучше сказать, колония всех вещей, что правятся и делаются на небе? Воистину, наша земля — храм мира! Но увы! Придет время, когда станут думать, будто Египет тщетно был верным поклонником божества: ибо божество, переселившись на небо, оставит Египет пустынным; и это седалище божества пребудет вдовым, без всякой религии, лишенным присутствия богов, ибо сюда придут на смену племена чуждые и варварские, без религии, без благочестия, без закона, без всякого культа. О Египет, Египет! только сказки останутся от твоей религии, сказки также невероятные для грядущих поколений, у коих не будет ничего, что поведало бы им о твоих благочестивых деяниях, кроме письмен, высеченных на камнях. И сии письмена будут рассказывать не богам и не людям; ибо люди умрут, а божество переселится на небо, но — скифам и индийцам или прочим таким же диким народам. Тьма возобладает над светом, смерть станут считать полезнее жизни, никто не поднимет очей своих к небу, на религиозного человека будут смотреть как на безумца, неблагочестивого станут считать благоразумным, необузданного — сильным, злейшего — добрым. И — поверишь ли мне? — даже смертную казнь определят тому, кто будет исповедовать религию разума: ибо явится новая правда, новые законы, не останется ничего святого, ничего религиозного, не раздастся ни одного слова, достойного неба или небожителей. Одни только ангелы погибели пребудут и, смешавшись с людьми, толкнут несчастных на дерзость ко всякому злу, якобы к справедливости, и дадут тем самым предлог для войн, для грабительства, обмана и всего прочего, противного душе и естественной справедливости: и то будет старость и безверие мира! Но не сомневайся, Асклепий, ибо после того, как исполнится все это, Господь и Отец Бог, управитель мира, всемогущий Промыслитель, водным или огненным потопом, болезнями или язвами, или прочими слугами своей милосердной справедливости, несомненно положит конец этому позору и воззовет мир к древнему виду».
6. Томмазо Кампанелла (1568-1639) — итальянский философ, поэт, политический деятель; создатель коммунистической утопии; монах-доминиканец. В 1598 – 1599 г.г. возглавил в Калабрии заговор против испанского владычества, был схвачен, около 27 лет провел в тюрьмах, где создал десятки сочинений по философии, политике, астрономии, медицине, в том числе — труд о Божьей земле «Город солнца».
7. Кардинал Пинелли — член руководства Священной конгрегации, один из палачей Джордано.
8. Бруно был монахом Доминиканского ордена.
9. 9 июня 1889 года на месте казни Дж. Бруно был открыт памятник.
Источник: http://www.ivens61.narod.ru |